Первая коронация. С чего начиналось признание суверенитета и единства русского государства?
Принято считать, что первым русским правителем, венчавшимся на царство, был Иван Грозный, и произошло это в 1547 году. Наш собеседник доктор исторических наук Олег УЛЬЯНОВ, специалист по древнерусской и византийской культуре, вносит существенную поправку: первое венчание на царство состоялось на Руси еще в 989 году. Совершил его Владимир Святой, и произошло оно в апостольском граде Корсуне — нынешнем севастопольском Херсонесе. Этот факт неизвестен большинству даже интересующихся историей, он способен перевернуть многие привычные представления и потому требует обстоятельного рассказа.

Полотно «Красные паруса» (1900 г.) — взгляд Николая Рериха на то, как выглядит поход князя Владимира на Корсунь. Эскадра изображена на фоне «огненных столпов», предвещавших победу./Из коллекции Государственной Третьяковской галереи/РЕПРОДУКЦИЯ АВТОРА
— Олег Германович, и при каких же обстоятельствах произошло это важнейшее событие?
— Вам знакомо определение «византийское содружество наций»? Нет? Оно впервые появилось и прочно утвердилось в науке после публикации в 1971 году одноименного фундаментального исследования византиниста Дмитрия Дмитриевича Оболенского. Термин, конечно, условный, но, по мысли ученого и его коллег, в эту «наднациональную общность христианских государств», центром которой был «новый Рим» — Константинополь, в Х веке входили Балканы, северное побережье Дуная и Северное Причерноморье, Кавказ, Приефратье и даже Италия.
Древняя Русь до Владимира Святого в это содружество включена не была. Сошлюсь на труд правившего в середине Х века императора ромеев (самоназвание жителей Византии) из Македонской династии Константина VII Багрянородного, который назывался De Сerimoniis — «О царском порядке». В нем автор указывал, что в документах, адресуемых правителям Древней Руси, императоры Византии обращались к ним, используя титул не «василевс», то есть суверенный наследственный монарх, а «архонт».
Именно этот невысокий титул, который был намного ниже королевского, был закреплен за правителем древнерусского государства. Точно так же Константин VII рекомендовал обращаться и к болгарскому царю, но там в добавление к архонту фигурировал эпитет «возлюбленный сын».
Византия в те времена рассматривала себя как «единственную» христианскую империю, как государство, где император являлся наместником Бога на земле и защитником всей христианской церкви. На тот момент Русь не была подчинена Византии, и ее ранг в политической иерархии был намного ниже.
Можно говорить о том, что в ту пору существовал биполярный мир, то есть доминировали два мировых центра: Византия (византийский император) и Рим (римский первосвященник). Никто из прочих правителей не мог встать вровень с ними. Даже несмотря на степень родства, которая была различна и зависела от многих факторов.
Так, например, до конца Х века императоры Византийской империи запрещали своим порфирородным (то есть принадлежащим к царскому роду) родственницам выходить замуж за правителей иных христианских держав. И более того, они предпочитали отдавать в жены иноземным государям своих дальних родственниц или даже просто знатных девушек, прибегая иногда к сознательному обману. При этом они неизменно пытались толковать брачный договор с правящим двором чужой страны как свидетельство ее зависимости от империи.
С конца Х века византийское правительство от этого принципа отказалось и стремилось поддерживать семейные связи с иностранными правителями. Сын императора Константина VII Багрянородного Роман II был помолвлен с Бертой-Евдокией — дочерью короля Италии и Нижней Бургундии Гуго Арльского. Феофано, непорфирородная племянница византийского императора Иоанна I Цимисхия, вышла замуж за Оттона II, сына германского императора Оттона I, и стала матерью германского императора Оттона III, современника Владимира Святого…
Однако родственные связи — это одно, а религиозная легитимация власти, что зачастую игнорируют историки, — это несколько иное. Между тем она имела исключительное значение, поскольку с помощью инаугурационного миропомазания правители европейских держав получали господство, не связанное с их местом в феодальной иерархии.
Миропомазание императора патриархом являлось непременным условием обретения законных прав на престол, и совершение этого таинства было исключительной привилегией лишь двух высших лиц церковной иерархии — Римского Папы и константинопольского патриарха. Только они могли даровать помазание, а без него любой правитель был в ту пору нелегитимен.
— И где оно должно было происходить?
— Исключительно в Риме или в Константинополе. Без миропомазания, совершенного в этих городах, ни один европейский монарх не мог достичь законного признания своих прав.
Причем только в Константинополе, апостольском граде, можно было стать василевсом, то есть легитимным главой всей Византии — Восточной Римской империи, или «ромейского мира». Лишь в этом городе, в «новом Риме», в соборе Святой Софии должны были короноваться и быть помазанными все претенденты, которые чаяли власти в Византии.
Однако в конце IX века Византийская империя переживала непростые времена. Летом 986 года она потерпела катастрофическое поражение от болгар, а на следующий год оказалась охвачена мятежом, который поднял влиятельный полководец Фока Варда, даже провозгласивший себя императором.
Ввиду смертельной опасности, нависшей над правившей в Византии Македонской династией, император Василий II, прося о помощи, отправил посольство на Русь к князю Владимиру, внуку княгини Ольги — первой правительницы Руси, лично принявшей христианство. Правда, сам Владимир тогда еще пребывал в язычестве. Тот откликнулся, и в 988 году в Византию отправилось русское войско, которое помогло императору Василию II нанести мятежникам два решительных поражения, в одном из сражений погиб и сам Фока Варда.
Ценой военной помощи князь Владимир выдвинул требование брака, объявив о желании взять в жены византийскую царевну Анну — родную сестру Василия II. Брак порфирородной принцессы с «варваром» стал бы исключением из византийских династических правил, и потому вполне понятно, что Василий II, хоть и получил русскую военную помощь, с исполнением своих обязательств по брачному договору не торопился.
Ряд источников сообщает, что Анна предлагала Владимиру креститься, прежде чем вступать с ней в брак. Тот выполнил и это условие, однако в достаточно необычной манере. С этой целью он предпринял свой знаменитый поход на принадлежавший Византийской империи город Корсунь.
Считается, что он захватил его после длительной осады. Правда, археологически никаких следов пожарищ этого периода не зафиксировано. Наоборот, Владимир в знак благодарности построил в Корсуне новые церкви, а затем вернул город византийскому императору.
— Во время своей лекции в Президентской библиотеке вы говорили, что этот город, как описывают источники, пришлось брать великим ратным трудом, с помощью разных хитростей. Так зачем это надо было, если потом его просто вернули?
— По всей видимости, раз Василий II не торопился выполнять обещанное, князь Владимир решил продемонстрировать силу. И именно в Корсуне произошли его крещение и бракосочетание с византийской царевной Анной. Но не только это.
Напомню, что именно Корсунь уже служил местом коронации византийского василевса и его миропомазания в начале VIII века. Корсунь был апостольским городом, здесь хранились мощи священномученика Климента, Папы Римского, рукоположенного самим первоверховным апостолом Петром.
На мощах апостола Климента можно было совершать инаугурационное миропомазание, стать законным или венчанным правителем. Вот какое значение имел Корсунь! И этот аспект выводит нас в совершенно иную плоскость.
Как только Византия узнала, что Владимир взял Корсунь, всем уже стало ясно, что именно там он сможет легитимно венчаться на царство.
В Киеве сделать это было нельзя: он был языческим городом, пусть даже во времена княгини Ольги в нем упоминался какой‑то православный храм. Но он не был апостольским городом, каким был Корсунь. В этом и состояла цель похода Владимира — обрести легитимное место для своей интронизации. То есть место, где он мог бы законным образом венчаться на царство.
О том, как происходило это событие, мы узнаем из документа, написанного без малого шесть веков спустя. Это грамота константинопольского патриарха Иоасафа II и собора Восточной церкви, которая была послана в сентябре 1561 года в Москву в ответ на просьбу Ивана Грозного утвердить за ним царский титул. Обратите внимание, сколько прошло времени после его венчания на царство 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля, и все эти годы Грозный жаждал международного признания.
При нем в официальном протоколе получила хождение легенда о «шапке Мономаха», будто бы присланной киевскому князю Владимиру Мономаху византийским императором Константином IX Мономахом, был сочинен некий литературный мистификат «Сказание о князьях Владимирских», ссылки на который вошли в дипломатические документы. А в 1551 году в Успенском соборе Московского Кремля даже было создано особое царское место, называемое также «Мономахов трон», где на резных панелях была подробно воспроизведена вся легенда о «шапке Мономаха».
Однако в грамоте Константинопольского патриарха Иоасафа II никакой Мономах не фигурировал, зато упоминался исторический факт, что византийские василевсы «Василий и Константин, вместе с тогдашним патриархом и священным собором архиереев, послали преосвященного митрополита эфесского, блюстителя Антиохии, который венчал на царство благочестивейшего великого князя Владимира»…
Это уникальное документальное свидетельство до сих пор не попадало в поле зрения историков и требует своей верификации. При этом важно учесть, что данный исторический факт упоминался в патриаршем документе с развернутой аргументацией и ссылкой на источники византийского происхождения: «Наше смирение узнало и уверилось не только от предания многих достойных доверия мужей, но также и из письменных показаний летописцев».
Как известно, у Константинопольского патриархата было целое ведомство, которое из столетия в столетие вело непрерывное делопроизводство, где хранились библиотека и архив (они располагались в прилегавших к храму Св. Софии патриарших палатах). Помимо церковных документов и хроник в архиве Константинопольского патриархата находились и тексты императорских грамот, даже тех, оригиналы которых были утрачены, что особенно важно для данной темы.
До сих пор в исторической науке ни разу не ставился вопрос о венчании на царство Владимира I Святославича…
— Интересно почему?
— Причиной было расхожее мнение, что Владимир никогда не предпринимал попыток коронации. Однако задолго до крещения Руси помазание миром при восшествии на престол стало во всей Европе обязательной нормой, которую Владимир просто не мог проигнорировать.
Следует также учесть, что порфирородная царевна Анна, ставшая, по условиям межгосударственного брачного договора, женой Владимира, вряд ли могла допустить несоблюдение византийской инаугурационной традиции и, как следствие, принижения статуса своего супруга.
Более того, полученный Владимиром после коронации царский титул нашел свое отражение в целом ряде памятников, ближайших к его времени. Прежде всего в самой ранней датированной восточнославянской книге — Остромировом Евангелии, созданном в 1056 – 1057 годах. Оно было написано за семь месяцев несколькими мастерами книжного дела, в том числе диаконом Григорием, для новгородского посадника Остромира (отсюда и название). Ныне этот раритет хранится в Российской национальной библиотеке.
Среди чтений на разные потребы, которые обычно перечисляются в конце литургических рукописей, в Остромировом Евангелии есть «чьтение въ победу царю на брани». Примечательно, что графика этого текста обнаруживает значительное сходство с древнейшим граффити в киевском соборе Святой Софии, датированным 1054 годом, о смерти Ярослава Мудрого: «Въ 6562 м (еся) ца февраря 20 усъпение ц (а) ря наш (е) го».
— В чем же было значение коронации Владимира Святого?
— Она декларировала политический суверенитет и единство русской нации, территориальную целостность Русского государства, гарантом чему служила самодержавная власть царя…
Кстати, лишь инаугурационное миропомазание могло стать единственной легитимной причиной для введения при дворе Владимира царского этикета. На равных правах с правителями Византии Владимир Святой приступил к собственной чеканке золотых и серебряных монет, где исключительные прерогативы русского самодержца были обозначены одним выражением — «На столе (престоле)».
На всех этих монетах первый русский царь представлен с такими же, как у византийского императора, регалиями: византийская императорская корона с крестом, в правой руке — скипетр с крестом, а одежда полностью повторяла императорское облачение.
Особый акцент на монетах Владимира Святого был придан детальному воспроизведению кампагий — императорских сапожек, облачение в которые собственно и входило в акт коронации. Такие кампагии были исключительной привилегией правящего василевса, больше никто не имел права их носить, и даже передача их другому означала передачу самой власти.
Император ромеев имел эксклюзивное право, как бы сказали теперь, на определенные цвета. Ими были пурпур (цвет царской обуви, личной подписи на документах, элементов одежды), золото (цвет блестящих доспехов, парчовых одеяний, императорской печати) и белоснежная чистота (от туники до всего облика божественного наместника).
Изображение на монетах нимба вокруг головы Владимира Святого несомненно указывает на декларирование полного равенства с правителем Византийской империи. Породнившись с императорским Македонским домом, династия Рюриковичей на Руси смогла сразу же войти в европейскую монархическую семью и занять одно из самых привилегированных мест в ее монолитной иерархии.
Владимир Святой один, без митрополита, совершал основание новых храмов в своем царстве, поскольку у него была своя автокефальная церковь, глава которой был полностью независим от Константинопольского патриархата.
Однако продолжалась подобная независимость не очень долго. При константинопольском патриархе Алексии Студите, возглавлявшем Вселенскую церковь в 1025 – 1043 годах, митрополия Руси начала утрачивать свою автокефалию, и присланный из «нового Рима» митрополит — грек Феопемпт даже заново переосвятил первый храм на Руси, заложенный лично Владимиром Святым, — Десятинную церковь, носившую также название «церкви Христова мученика и папы Климента».
— В связи с чем это произошло?
— Греки воспользовались междоусобицей на Руси.
Похоже, Владимир Святой шел на коренную ломку традиционного порядка престолонаследия, видя в своем младшем сыне Борисе преемника в обход старших сыновей. Возможно, из‑за его царского происхождения, ведь Борис (как и Глеб) был рожден от византийской царевны Анны Порфирородной.
Именно они, по замыслу Владимира Святого, должны были стать законными наследниками царского престола. Но вмешался старший сын Владимира Святополк, женатый на дочери польского князя Болеслава I Храброго.
Владимир скончался 15 июля 1015 года. Святополк, прозванный потомками Окаянным, самовольно узурпировал престол. Дошло до того, что основателя древнерусского государства и первого русского царя пришлось хоронить втайне: ночью разобрали деревянные перекрытия во дворце и спустили в ковре его тело, которое на санях перевезли в Десятинную церковь, где он и был похоронен в порфировом саркофаге…
А затем, в 1018 году, на Русь напал польский монарх Болеслав I Храбрый. Царский скипетр, венцы, мощи священномученика Климента, все письменные обязательства Византии перед Владимиром Святым, включая брачный договор, касающийся Анны Порфирородной, — практически все исторические документы были захвачены и вывезены.
Вот в чем причина отсутствия прямых свидетельств о венчании Владимира на царство. Спустя уже короткое время после его правления этот факт из истории нашего государства выпал. Теперь его надо вернуть.
Читайте также:
Торговец праздником: «с начала ХХ века воздушные шарики украшали все городские праздники»
Площадь на Васильевском. Проект административного центра острова «утонул» в бесконечных конкурсах
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 63 (7885) от 09.04.2025 под заголовком «Первая коронация».




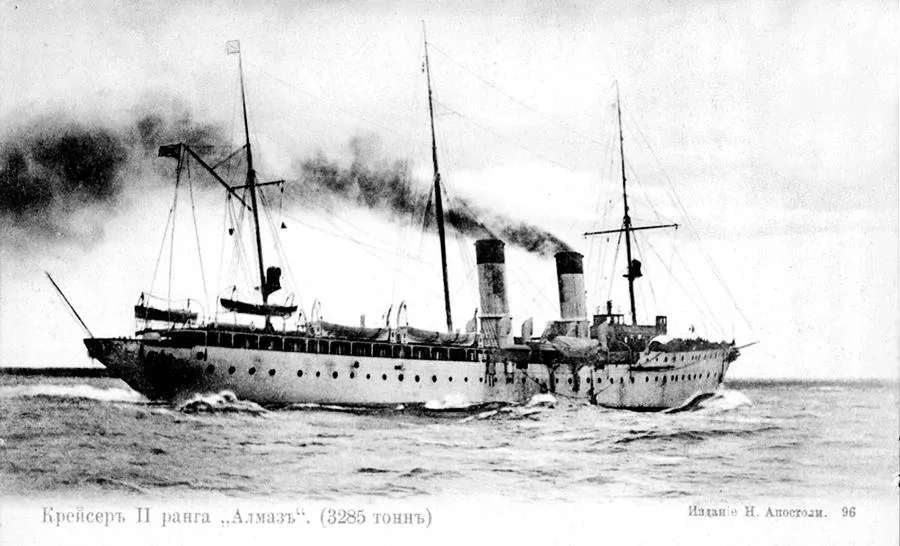
Комментарии