Весенний «интернационал»: как в Северной столице отметили праздник тюркских народов Навруз
Любой национальный праздник — это своего рода концентрат. «Вытяжка» всего самого яркого и выразительного из этнических черт и особенностей, сформированных веками истории народа, представляемая в музыке и движении, сценических сюжетах и традиционных играх, костюмах и украшениях. Такие праздники не бывают тусклыми и не могут наскучить по определению. А благодаря исконной многонациональности России у нас они идут чередом. Отмечают их разные народы по‑разному, но всегда очень красиво и колоритно.

ФОТО Ксении ПОПОВОЙ
Навруз, Новруз, Нооруз, Наурыз, Новрез в переводе с персидского — «новый день». Древний праздник прихода весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю отмечается в день весеннего равноденствия. Выставка, посвященная традициям народов, для которых этот праздник остается важной частью их культурного наследия, состоялась в Доме молодежи.
В крошечном фойе Дома молодежи на Новоизмайловском проспекте не протолкнуться. По обеим сторонам неширокого прохода расставлены небольшие столы. На одних плотненько уложена разнообразная мелочь ручной работы — шитая, вязаная, слепленная, вырезанная, выточенная и даже выкованная. Протиснуться к ним сложно, приходится ждать, когда стоящие впереди налюбуются на всю эту красоту, вдоволь наговорятся с хозяевами прилавков и покинут авансцену. На других столах разложены книги и этнические музыкальные инструменты (там как‑то посвободнее), на третьих предлагают вынырнувшим из толпы гостям продегустировать необыкновенного вида еду с загадочными названиями.
Приветливая хозяйка башкирского стола Венера Лукьянова предлагает отведать мягкий кисломолочный курут (паста, которой башкиры приправляют мясные блюда) и томленый красный творог иремсек с перемолотой черемухой.
— Когда идет пост, днем мы не едим ничего. Первый ифтар — это когда солнышко сядет — тогда можно будет, — поясняет Венера Фатыховна. — В семьях Навруз сладостями-вкусностями отмечают, но только вечером, когда мусульманам можно будет есть и пить. А сейчас здесь мы гостей угощаем — ну тех, кому можно, конечно…
На столе сверкают расшитые бисером и монистами детали женского национального костюма — нагрудники, подвески, накосники, головные уборы. Все это изготовлено мастерицами по музейным образцам, а вот яркие сумочки, также расшитые монетками, — уже не аутентичные, а стилизованные, авторские, как объясняет хозяйка башкирской мини-экспозиции. Оказывается, у таких необычных звонких вещей есть поклонницы и среди современных горожанок.
— У нас говорят: башкирскую женщину сначала издалека услышишь и только потом увидишь, — улыбается Венера Лукьянова. — А интерес к народным промыслам и культуре здесь, в Петербурге, с каждым годом растет. Это не так давно началось, раньше такого не было. И мы радуемся, когда разные люди больше узнают о культуре башкир.

ФОТО Ксении ПОПОВОЙ
Венера Фатыховна и ее подруги представляют общественную организацию «Курултай башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области»:
— У нас организация большая, интересная, творческая — мы и мастерим, и поем, и танцуем — на концерте вот выступать будем…
У соседнего стола гостей праздника знакомят с главным, обязательным, можно сказать фирменным, весенним угощением, которое готовится специально к Наврузу — узбекским сумаляком. И заодно рассказывают о сложной, требующей времени и терпения технологии его приготовления. Зеленые ростки пшеницы (зерна начинают проращивать за шесть недель до праздника) хозяйки перекручивают в мясорубке, добавляют муки, подсолнечного масла и варят всю ночь, около 12 часов, подливая помаленьку воду. Без грамма сахара или меда получается очень нежное, деликатно-сладковатое лакомство цвета ряженки. Вся сладость — природная, из сока нежных перышек-побегов.
Бравые чернобровые курсанты (они приехали учиться в Петербург из Душанбе и Худжанта), смущаясь, признаются, что сыграть на выставленных перед ними таджикских музыкальных инструментах (рубабе, дуторе и таблаке) не сумеют, а вот рассказать об особенностях расшитых узорами тюбетеек могут — это пожалуйста.
Не посчастливилось услышать и звуки соседствующих с таджикскими азербайджанских струнных — саза, тара и кяманчи.
— На сазе играют, положив его на грудную клетку, — пояснила ответственная за эту выставку юная красавица в ярко-красном сценическом наряде. — Считается, что именно такое положение помогает передавать музыку прямо из сердца. Но я сама играть, к сожалению, не умею…
А вот звуки, издаваемые странным афганским инструментом армония (эдакий гибрид, будто сложенный из части фортепианной клавиатуры октавы на три и половинки аккордеона), показались знакомыми и даже родными. Ну да — это же родственница гармони…
Когда организаторы праздника пригласили публику в зрительный зал, где начинался праздничный концерт, выставка свернулась и исчезла так быстро, будто ее ветром унесло. Объяснение простое: большинство ее «кураторов» и «гидов-экскурсоводов» одновременно еще и танцоры, и певцы (башкирские тетушки-мастерицы в красно-белых костюмах и монистах, например, оказались звонкоголосыми участницами фольклорного ансамбля «Ирандек»). И они же, за небольшим исключением, — зрители. А потому зал весь вечер находился в движении — уходили за кулисы одни артисты, приходили другие, уже выступившие. В итоге Навруз получился таким «внутренним» мероприятием для своих — участников национально-культурных объединений и их творческих коллективов. Вот только вместительный зал оказался заполнен немногим более, чем наполовину. А жаль: многие коллективы (например, театр адыгского танца «Нарт», дагестанский хореографический ансамбль «Имамат», киргизская танцевальная группа «Шоола», казахский коллектив «Арай», фольклорный ансамбль татарской песни и танца «Ак чарлак» и другие) порадовали бы, думается, и публику, не имеющую непосредственного отношения к национальным общественным организациям, создав в этот день атмосферу широкого народного праздника, как это уже не раз бывало в Петербурге.

ФОТО Ксении ПОПОВОЙ
В ТЕМУ
У Навруза иранские корни и примерно трехтысячелетняя история. Официальный статус он приобрел в Ахеменидской империи как религиозный праздник зороастризма. В России считается праздником мусульман, поскольку получил распространение прежде всего среди мусульманских народов. Теперь он вовсе не религиозный, к исламским обычаям отношения не имеет, а скорее является интернационально-культурной традицией. И даже умудряется идти вразрез с религиозными календарями: нынче, например, выпал на последнюю декаду Рамадана — месяца поста у мусульман и середину Великого поста у христиан…
Этот праздник считают исконно своим десятки коренных народов России, говорящих на тюркских, кавказских и иранских языках. Это татары, башкиры, кумыки, лезгины, карачаевцы, балкарцы, кабардинцы, черкесы, адыгейцы, чеченцы, ингуши и многие другие. Кавказские народы, особенно живущие в Южном Дагестане, были знакомы с Наврузом еще в доисламский период благодаря тесным контактам с Сасанидским Ираном. С большой долей вероятности с того же времени Навруз мог быть известен и предкам современных поволжских татар — булгарам, савирам, баранджарам и хазарам, которые в V – VII вв. проживали на Северном Кавказе.
По мнению историков, наиболее полно этот иранский обычай соблюдался предками современных мусульманских народов России в период существования крупных мусульманских государств и империй (Золотая Орда, Казанское, Сибирское, Астраханское и Крымское ханства). В советские годы Навруз оказался под запретом, как и многие другие национальные праздники, в постсоветские он стал одним из символов национального возрождения этих народов.
У продолжающих традицию российских и среднеазиатских народов, несмотря на их национальные и языковые различия, можно обнаружить много общего. Татары проросшей пшеницей и сейчас украшают стол, на котором должно быть много яств и семь магических предметов и продуктов. В прежние времена группы детей или подростков ходили от дома к дому с песнями и пожеланиями благополучия, а хозяева давали им за это гостинцы — крашеные яйца, сладости и крупы семи видов. Во время Навруза молодежь устраивала игры и состязания. На празднике выбирали самую красивую и нарядную девушку села — Наурузбикэ, девушку-весну.
У тоболо-иртышских и барабинских татар празднование Навруза бытует под названием Эмель (от араб. «Хамаль» — «Овен»). Дети или взрослые тоже ходят «колядовать», только эта праздничная милостыня называется «садака». У астраханских татар, как и у других кочевых тюрко-мусульманских народов Нижнего Поволжья (казахи, ногайцы-карагаши, туркмены), на праздничном дастархане также были особые ритуальные кушанья из круп, мальчики ходили с песнями по домам, их одаривали деньгами либо сладостями.
Башкиры в первый день нового года ходили с поздравлениями и собирали продукты для общей трапезы и подарки для участников традиционных состязаний — скачек и борьбы. А в праздничном меню тоже особые блюда из пророщенной пшеницы или ячменя. Лезгины называют праздник Яран-Сувар, у них в этот день обычно бывает много огня — костров, факелов, горящих шаров и стрел. Ну и, конечно, пляски, песнопения, различного рода представления, гулянье ряженых по дворам с шутками-прибаутками и угощениями от хозяев. Причем празднования у лезгин продолжались 14 дней, в которые они, правда, не только угощались и веселились, но и активно участвовали в «помочи» — всем обществом помогали друг другу в весенних хозяйственных делах. Ведь весна — это не только радость от пробуждения природы, но и грядущие полевые работы. А весенний день, как известно, год кормит.
Читайте также:
«Жить спокойно, не зная болезней». В Петербурге состоялась научная конференция «Доржиевские чтения»
Моржи собрались на съезд. В Петербурге состоялся фестиваль плавания «Кубок Большой Невы»
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 63 (7885) от 09.04.2025 под заголовком «Весенний «интернационал»».




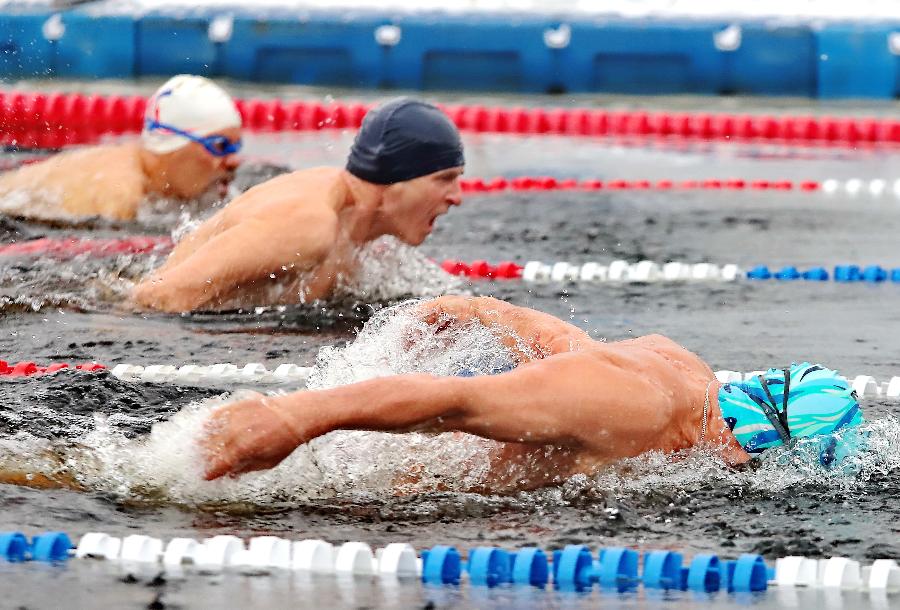
Комментарии