Не крема, граждане, а кремы!
Милое дело – отвечать на простые точно сформулированные вопросы: «А вот как правильно – крема или кремы?». Словарь – в руки, и ответ готов: «Кремы, не рекоменд. крема». Но за курсивом явно скрывается какая-то история раздражающей многих формы множественного числа.
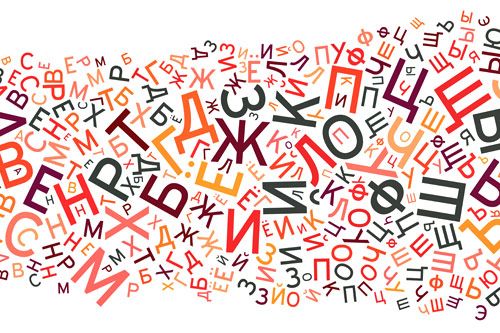
Еще Корней Иванович Чуковский в книге «Живой как жизнь» с возмущением писал о формах на -а(-я): договора, бухгалтера, катера, тополя, лагеря, в которых ему слышалось «что-то залихватское, бесшабашное, забубенное, ухарское». Но, возмущаясь, автор одной из лучших книг о русском языке понимал и объяснял своим единомышленникам, что «на протяжении столетия (книга написана в 1967 году. – М. С.) происходит какой-то безостановочный стихийный процесс замены безударного окончания -ы(-и) сильно акцентированным окончанием -а(-я)». Вглядываясь в этот процесс, Чуковский напоминал, что более ста лет назад еще говорили и писали: домы, докторы, учители, профессоры, слесари, юнкеры, флигели... А потом охотно заменили их новыми формами: дома, учителя, профессора и т. д.
В поисках утешения вспомнил Корней Иванович и о том, что еще Ломоносов двести лет тому назад утверждал: русские люди предпочитают «а» «скучной букве» «и» в окончаниях слов: облака, острова, леса вместо облаки, островы, лесы. В подтверждение мысли первого нашего филолога вспомним Высоцкого: «Мы говорим не «штормы», а «шторма» – //Слова выходят коротки и смачны.// «Ветра» – не «ветры» сводят нас с ума,//Из палуб выкорчевывая мачты».
Всезнающий Дитмар Эльяшевич Розенталь написал, что для современного языка «продуктивно образование форм на -а(-я)». Такой форме соответствует большинство односложных слов: бег – бега, дом – дома, снег – снега и слова, имеющие в единственном числе ударение на первом слоге: вечер – вечера, катер – катера, парус – паруса. Две формы множественного числа сейчас разграничиваются стилистически: форма на -ы(-и) более характерна для книжной, преимущественно письменной, речи, а на -а(-я) часто встречается в речи устно-разговорной или профессиональной.
В книгах, действие которых происходит в XIX веке, нам обязательно встретится форма «профессоры». Например, в тыняновском «Пушкине» Сперанский «рекомендовал в профессоры молодого ученого геттингенца» – читателям понятно, что речь идет о Куницыне. А в то самое время, когда Куницын доучивал первых лицеистов, героиня комедии Грибоедова возмущалась другим учебным заведением, где «упражняются в расколах и безверьи//Профессоры!!». Обратившись к Национальному корпусу русского языка, нетрудно увидеть, как после 1917 года «дореволюционные профессоры» сменились соответствующими новой эпохе «профессорами».
Точно так же и некогда почитаемые «учители» стали простыми «учителями». Форма «учители» отмечается в Национальном корпусе в основном в текстах XVIII и начала XIX века, например в «Недоросле» – «Митрофанушкины учители», «скоро и учители придут». А еще в многочисленных религиозных текстах: «Отцы и учители Церкви». В современной литературе эта старая форма если изредка и появляется, то с легким ироническим оттенком, как у
А. Варламова: «Нечего было в писатели, учители жизни лезть...».
В некоторых случаях, как правило, связанных с омонимией в единственном числе, окончания зависят от значения. Так, недосмотры в работе – «пропуски», а документы – «пропуска»; общественно-политические группировки – «лагери», а «лагеря» – это военные, детские, туристические и т. п. учреждения; в искусстве – «образы», но иконы – «образа». Нормативная форма «крендели» меняется на «кренделя» только в выражении «кренделя ногами выписывать (или выделывать)».
Возвращаясь к началу, к простым по видимости вопросам, советую все же запомнить самые общеупотребительные слова, нормативно оканчивающиеся на -ы(-и): инженеры, шоферы, бухгалтеры, инспекторы, инструкторы, слесари, токари, договоры, госпитали – и кремы, разумеется. Что же касается разговорного и профессионального просторечия, оставим его на совести тех, кто это себе позволяет.
Эту и другие статьи вы можете обсудить и прокомментировать в нашей группе ВКонтакте
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 055 (5672) от 31.03.2016.




Комментарии